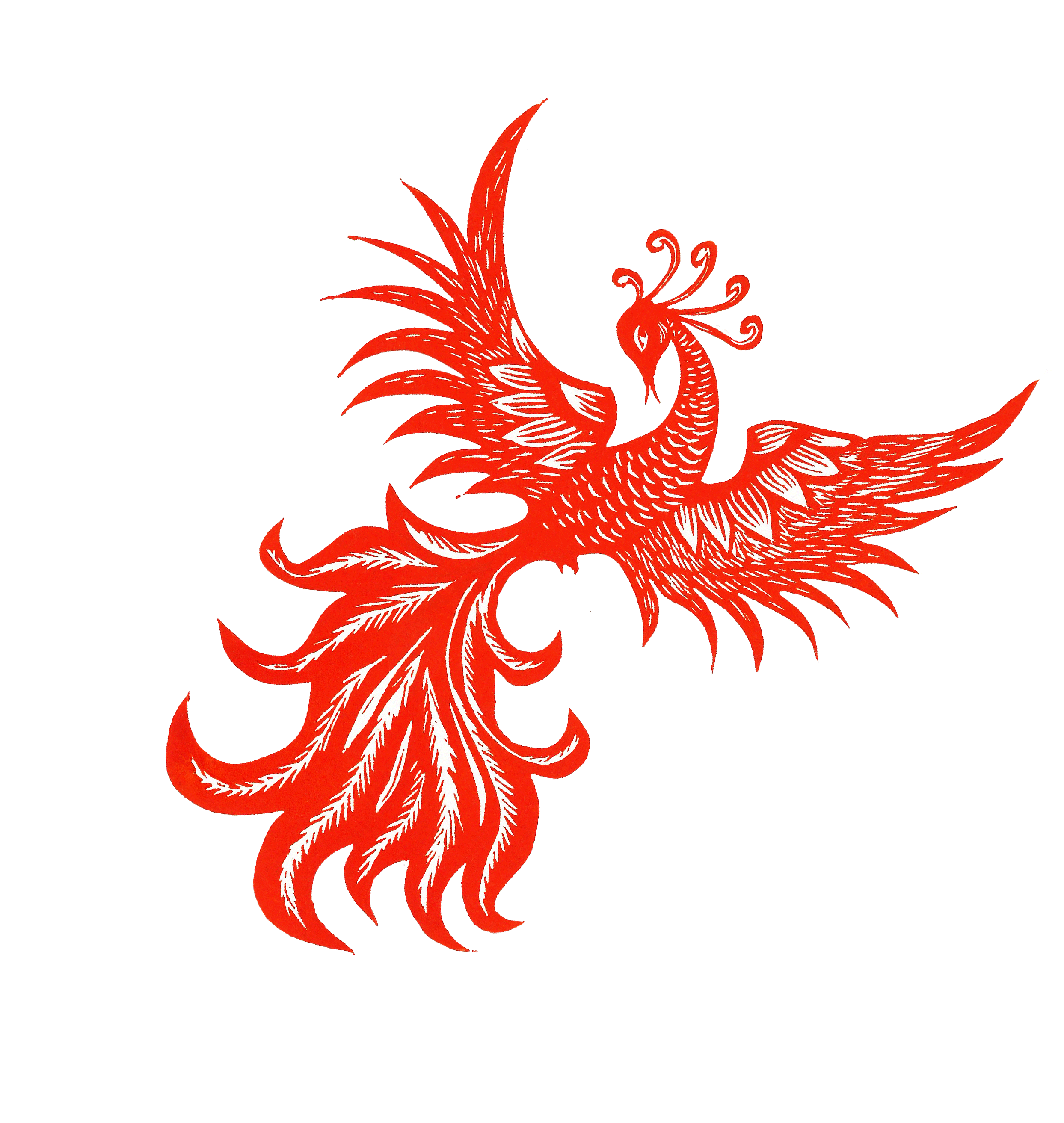Они снимали закат, направив видеокамеру телефона в единственный иллюминатор, так, будто видят его в первый раз, активно жестикулируя и показывая друг другу с восхищением на невидимую нам, сидящим на скамейке у противоположной стороны борта, уставшим от долгого полёта и неудобной позы, точку у горизонта. Хотя горизонт – это линия соприкосновения неба и земли, если ты стоишь на земле. А как тогда назвать самую крайнюю видимую линию у неба, если ты сам – в небе, и если оно бескрайне? «Подумаю об этом после», – решила я, продолжая наблюдать на восторженными парнями, снимающими уже и картинку в иллюминаторе, и друг друга, и обстановку на борту. Они впервые видели мирный закат прямо у его истока. Не дымящийся, не грохочущий, не кровавый, а настоящий, рождающийся в мирном дремлющем небе тихий закат.
Надо сказать, что «туда» (то есть в Севастополь) летели мы гораздо в более стеснённых обстоятельствах – уже в Чкаловском, по указующему движению руки старшего техника аэродрома стало понятно, что на посадку подан нынче совсем не тот ИЛ, в котором в предыдущих полётах агитбригад можно было хоть бы немного почувствовать себя пассажиром и даже, чуть откинув кресло, подремать в ожидании стабилизации самолёта после набора высоты, пока тебя вжимает в кресло, как в судьбу. Ты выбрал её однажды и следуешь ей, и она принимает тебя с радостью, с новыми эмоциями и впечатлениями, с новыми задачами и трудностями, то вот так вжимая в кресло при взлёте, дабы всё происходило равновеснее и равновеличественнее, что ли, то подрагивая всем корпусом и спотыкаясь о невидимые небесные камни, попав в зону турбулентности, то с резким свистом и гулом, от которого закладывает уши так, что движение воздуха будто бы слышно внутри черепной коробки, до тех пор, пока самым резким движением – ууууух – самолёт не коснётся посадочной полосы сначала парой центральных шасси, а затем становится на шасси переднее и окончательно фиксирует произошедшую, довольно мягкую, посадку.
В этот раз нам предстояло лететь на грузовом самолёте, что сразу стало понятно по раскрытой пасти его, жадно пожирающей грузы и пассажиров, и всего двум иллюминаторам, расположенным симметрично по обе стороны тела огромной железной махины.
Весь центр «нутра» был загружен разной поклажей: коробами, коробками и коробочками, на которых значились отправители, по которым можно было изучить всю Российскую необъять: Красноярск, Мурманск, Москва, Екатеринбург, Томск, Киров, и много-много других городов, ниже на всех них была обозначена организация, а ещё ниже – всегда как святой пароль – «ФРОНТУ». Более мелким шрифтом, потому что не всегда помещался в одну строку – сердечное, этаким вскриком: «Мы с вами», «За Донбасс», «Нашим бойцам от…», «Тыл-фронту» и много-много других фраз. Звучавших не лозунгами, а заклинанием: «Возвращайтесь живыми!».
И мы, заходя в самолёт, рассаживались по обе стороны этих грузов там, где было место, чтобы уместиться вместе с ручной поклажей и своими многочисленными «бригадными» чемоданами, с книгами, письмами, ангелочками и гитарами. А рассевшись, поняли, что вот этот вот грузовой борт с сумятицей внутри, с тихой помощью одного другому, с молчаливым движением в сторону для твоего прохода, с подачей руки без просьбы – вот он, наш мир теперь, напряжённый, тревожный, готовый к различным трудностям, переносам полёта и даже отменой, но к работе всегда готовый и дело делающий до конца. Летели, немного подремав на неудобных скамейках, то ли упираясь коленками в бортовую поклажу, то ли опираясь на неё, периодически разминая неудобно извергнутую шею…
Будь ты хоть трижды крещенным полётами, небом и землёй, посадка каждый раз – это был день рождения, ну или Новый год, скорее даже – день Победы, но совершенно точно – праздник! Потому что от множества неприятных историй с ракетами, дронами и прочими объективными обстоятельствами военного времени и местонахождения – содрогается душа. Но только до того момента, пока ты не принял решение и не отправился из дома в свой путь. Который нужен и важен тебе. Даже если он станет последним. И ты всегда к этому готов, раньше оставляя записки для друзей и домочадцев, что и в какой последовательности надо будет доделать «в случае чего», а теперь просто спросив перед выходом: «Вы всё помните?» и по их молчаливому кивку головы поняв точно, что помнят и понимают тебя, обняв их также молча и закрыв за собой дверь. Но ведь всегда ждёшь от судьбы благости и от Господа – защиты, поэтому каждая посадка – это радость. Только в военной авиации лётчикам не хлопают, а лишь уверенно в них хмыкают: работа, мол, у них такая – невидимая, сдержанная, надёжная!
Ростов! Здесь самолёт дозаправят, часть пассажиров покинет борт, другая часть – на посадку только приедет, ну а самые весёлые наши пассажиры продолжат «Гым-гам», постоянно доливая какую-то бесцветную жидкость из бутылки с надписью «Лимонад «Буратино» друг другу и предлагая стаканчики с ней всем сидящим рядом.
Наш ИЛ, наш тяжеловоз, военная «рабочая лошадка», как, любя, называл его бортовой техник, вдруг разговорившись со мной в тот момент, когда я пыталась разглядеть в иллюминаторе море, тяжело становясь и затормозив окончательно, выпустил пар и умолк. Задняя дверь борта, составлявшая одновременно и его стену, поднималась медленно и тяжело, открывая выход «на свет Божий», то есть спуск на землю, где можно будет походить, подышав полной грудью и размяв затёкшие от неизменной позы спину и ноги.
Наша команда вышла одной из первых, очень оперативно, поскольку вещи брать было не нужно, и встала поодаль от борта, потягиваясь, разминая плечи, и одновременно осматриваясь вокруг. Совсем недалеко заходила на посадку вертушка (военный вертолёт, похожий на огромного грозного жука в боевом камуфляже), к нашему борту съезжались разные военные машины – буханки, джипы, автобусы и даже Уралы, на параллельной полосе, издавая почти зверский гул и вой, взлетал очередной огромный борт.
Вокруг нашего ИЛюши скопился народ.
Трапы, кинутые к борту для выхода, были такими узкими, наклонными и скользкими, что даже ребристость, нанесённая на них, не помогала безопасному спуску, и приходилось быть чрезвычайно осторожными, чтобы удержать равновесие и спуститься без падений. Женщинам, к слову сказать, очень немногочисленным в этом полёте, подавали руку поднимавшиеся с ними мужчины, мужчины поднимались и спускались самостоятельно, хотя рядом, по обе стороны трапа, постоянно находились военные – молодые ребята, всегда готовые прийти на помощь.
Но сейчас картина сходней была совсем иной: с борта самолёта спускались наши бойцы, некоторые в форме военной, хотя большинство – в штатском, но практически все – с костылями…
Когда при посадке я услышала от некоего диспетчера, дававшего информацию ответственному за вылет человека со списком в руках, которая крикнула, указав рукой на автобус с красным крестом на лобовом стекле: «У нас 25 человек, реабилитация Ростов», то уже тогда стала присматриваться к их лицам. Потому что смотреть на их увечья было неудобно, я не могу себе позволить взгляда, в котором будет видна лишь безотчётная жалость.
Это были ребята, летевшие из госпиталя, где, очевидно, проходили лечение после ранений различного вида, которых теперь отправляли в госпиталь ростовский для длительных реабилитаций: разработке рук и ног, полному восстановлению после ампутаций (если такое, конечно, возможно), психологическому восстановлению.
Это были молодые ребята, практически все – с отсутствующими конечностями…
Эдакие красавцы, очень многие – мужественны и широкоплечи, другие – коренасты и серьёзны, опиравшиеся на костыли, все молчаливы и задумчивы. Почти у каждого – неловко спотыкаясь, ожидая опоры в следующей постановке костыля, по земле ступала лишь одна нога. Там, где должна была быть вторая – висящая пустота брючины и сужение её к концу, у некоторых – сознательно скрученная, у других, будто помнившая – повторяющая форму уже отсутствующей ноги.
И во взгляде у каждого – не задумчивость даже, не любование окрестностями, не вдыхание последнего осеннего по-настоящему тёплого ещё ветра, не радость в ожидании скорого прилёта назад из-за ленточки, не домой, но хотя – приближение дороги к дому, а – растерянность.
Растерянность от встречи с миром, к которой они все оказались не готовы, потому что теперь они – воины, получившие жестокие увечья – калеки. Потому что теперь шаги и многие обыденные в прошлом вещи стали для них недоступны.
Когда они заходили в самолёт в Кировском, я просто отмечала про себя степень этой искалеченности, по опыту общения с ранеными определяя: вот этому сложнее, этому – легче, этот всё перенесёт, смеясь, а этот – надолго уйдёт в себя. Они помогали друг друг подняться по этому чёртовому трапу, переставляя костыли так неловко, что помочь хотелось каждому.
В самолёте, рассевшись на такие же скамейки, они стали почти обычными людьми, и только костыли, возвышающиеся над уровнем голов сидящих людей, напоминали о невозможности возврата их к обычности… И на этот раз мне было не уснуть, потому что на ум приходило только одно сравнение – не судеб, нет – душ! Тех, которые стояли за страну на полях сражений и тех, кто 31 октября ходил раскрашенным и обряженным во всякие дьявольские костюмы и маски с рогами по городу-герою Севастополю, отмечая дьявольский же праздник, даже название которого я не хочу указывать. Тех, кто в госпитале, подойдя к нашей бригаде, делится своей трагедией: «Всё, отвоевал, списали! А что, разве мужчина в 65 – не мужик уже?» и тех, кто уже в 45 считает себя дедом и уходит в запой. Тех, кто знает, чего стоит каждая взятая высота и тех, кто, удивляясь нашему желанию посетить Малахов Курган, говорит, что там «особо и смотреть-то и нечего»…
Но когда в Ростове они стали с борта спускаться, останавливаясь на высоте самолёта перед трапом, как перед пропастью, скрывая свою растерянность и запрещая себе озираться вокруг в поисках помощи, а потом, поняв, что без посторонней помощи на одной ноге и костылях это сделать невозможно, опускались на… «пятую точку» и съезжали вот прямо так, как в детстве с горы, то я… отворачивалась от этой картины. Потому что снова не имела права на жалость по отношению к ним, и даже на помощь им не имела права. А на слёзы – тем более.
Они ведь – герои наши! Неважно, кто, что, и в какой операции, и насколько значимого совершил. Неважно, есть ли у них награды, отметки руководства в военном билете или даже благодарности сослуживцев. Они – герои уже лишь потому, что победили самих себя! Отправились на эту войну, не побежали из страны при начале специальной военной операции, не побежали прятаться и делать справки при объявлении мобилизации в 2022, не спасовали и тогда, когда мы по непонятным (лишь на первый взгляд) причинам стали отступать с уже отвоёванных территорий. Они – это мы, в лучших представлениях о своей стране и своём народе. Они – это наша смелость, совесть, честь и мужество, только произнесённые от первого лица. Они же – и наше будущее, которое наступает уже теперь.
И, глядя на них, стоящих в эту минуту перед выполнением другой задачи – подняться на подножку и зайти в госпитальный автобус, мне подумалось вдруг: сколько ещё должно пройти дней, месяцев, лет войны, чтобы победа наступила здесь, у трапа самолёта?..
Чтобы злобность и алчность иных представителей народа, за который наши бойцы там, «за ленточкой», отдают свои судьбы, утихла, наконец, поняв, что настоящая борьба идёт не там, а здесь. Чтобы живущие здесь, в тепле, сытости и относительном спокойствии поняли, наконец, насколько хрупок мир, насколько бесценна жизнь и насколько пусты и бессмысленны все свары, устраиваиваемые из-за таких пустяков, что и упоминать-то стыдно.
Чтобы, после войны, как называется и книга поэта-воина Алексея Шорохова – «После войны», на презентации которой мне вчера удалось побывать и поспорить с автором о том, наступит ли это «после», даже когда мы победим – мы могли бы смотреть прямо и честно в глаза друг другу и нашим воинам, живым, покалеченным и павшим, но до конца стоящим за наш мир, который мы, здесь, в тылу, до сих пор продолжаем крушить самым нещадным образом…
Поездка завершена, все задачи выполнены, как говорят военные, а если по-нашему, по-писательскому – Слово свою миссию выполнило! После прочтения «Воробья» меня искал боец, раненый, но уже идущий на поправку, который так искренне сказал: «Спасибо вам! Особенно за воробья! Меня тоже несколько дней считали погибшим, а я – вот он, живой!», что мне было не удержаться от слёз. А в другой части, где давали концерт прямо в бомбоубежище, куда нас быстренько доставили при сигнале ракетной опасности, нашла своего земляка – великолучанина, который простодушно спросил «А как вы здесь?», и весь концерт слушал, не шелохнувшись.
И ещё – в один из госпиталей мне посчастливилось исполнить ещё одну миссию – вместе с книгами я раздавала солдатам ангелочков-оберегов, сделанных руками моих подопечных – проживающих Великолукского дома интернета для престарелых и инвалидов. Не очень послушными руками, но такими искренними движениями сердец, что раненые воины почувствовали это мгновенно и за ангелочками после концерта выстроилась очередь…
К большому сожалению, условия наших пребываний и выступлений стали гораздо строже, фотографии были запрещены практически в каждой точке, телефоны оставляли на КПП частей, поэтому зримых воспоминаний мало, все они – в сердце. Выкладываю поэтому самую малость из того, что разрешили.
Гул самолёта за спиной –
Как будто дней разбег.
Война идёт передо мной
Шеренгою калек.
Война взошла со мной на борт,
Расселась по местам.
На взлётке ветер распростёрт,
Прижавшись к небесам.
Ждут пацаны, окончив срок
С опущенным мечом.
И на двоих им – пара ног
Да общее плечо.
Погода портится опять,
Нависнув тонной туч.
Тревожным сном солдаты спят,
Я с ними – в мир лечу.
Вчера лишь – мамкино дитя,
Сегодня – слеп и сед.
А из штанин торчит культя,
Судьбы меняя след.
Они старались уцелеть
На точке огневой.
Глаза их – ржавленная медь
России вековой.
Молчанья их угрюмый дух
Окутал голоса.
А впереди – одной из двух –
Ложилась полоса.
Вместившись прямо со страной
В тот грузовой отсек,
Война прошла передо мной
Шеренгою калек…